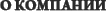Преступление и наказание
Пресса04.12.2006
Не вырубишь топором Питерский режиссер Дмитрий Светозаров снимает телесериал по роману Достоевского "Преступление и наказание" .Известно, что имперский фасад замечательного города Санкт-Петербурга - с нарядной толпой, во всякий день и час фланирующей по Невскому, с лепниной, кариатидами, дворцами и фонтанами - никак не отразился в романе Федора Михайловича Достоевского "Преступление и наказание". Напротив, уже в первой главе блистательная столица Российской империи описана чуть ли не с омерзением: "нестерпимая вонь из распивочных", "особенная летняя вонь", "духота и толкотня" так и преследуют Родиона Романовича Раскольникова, юноши с "расстроенными нервами". Всюду - грязь, скверные запахи, миазмы тления; как будто не кто иной, как сам Петербург, словно живое существо, донельзя порочное, нашептывает нашему герою нарушить первую христианскую заповедь.
Все эти грустные обстоятельства бытования бедного студента, снимавшего в петербургских углах жалкую каморку, "на гроб-с" похожую, описаны не раз и не два. Иные достоеведы, особенно так называемого советского периода, склонны обвинять в убийстве старухи-процентщицы не самого зарапортовавшегося студента, а исключительно его обиталище - то ли шкаф, то ли гроб. Отчасти, конечно, и они правы - в эдакой тесноте и антисанитарии человеку с фантазией никак невозможно, плохо кончится; правда, однако, и то, что квартирный вопрос здесь не на первом месте.
Впрочем, кому как: для съемочной группы Дмитрия Светозарова (постановщика "Улиц разбитых фонарей" и "Агента национальной безопасности"), снимающей сейчас в Петербурге сериал по знаменитому роману, этот самый "квартирный вопрос" буквально поперек горла. Еще немного, и пришлось бы выкручиваться при помощи декораций, картонного подобия среды обитания Раскольникова. Однако повезло: на Конюшенной площади, во дворе старых императорских конюшен, выстроившихся изящным полукругом, такое мрачное местечко нашлось. Прямо мистика какая-то, не иначе: здесь, говорит Светозаров, не было никакого ремонта с 1830 года, почти двести лет то есть. И если в других экранизациях классики в кадре видны, предположим, стеклопакеты, то здесь, во внутреннем дворе конюшен, нет ничего, что напоминало бы ХХI век. Счастливый Светозаров с комической гордостью предлагает полюбоваться выбитыми стеклами и облупившейся штукатуркой - словно какой-нибудь рачительный новорусский хозяин, демонстрирующий гостям свой "евроремонт". Нагнувшись и сгорбившись, будто пролезаешь в пещеру, можно пройти и внутрь, в комнату Сонечки Мармеладовой: трогательное обиталище нестерпимой, вопиющей бедности - железная кровать, пошатнувшийся столик, кое-как застеленный старенькой скатеркой, пара кривых стульев, на которые можно сесть разве что в воображении...
Сегодня здесь будут снимать одну из важнейших сцен - визит Свидригайлова к Сонечке, до смерти ее напугавший. Свидригайлов (то есть Александр Балуев), с девчоночьими невидимками в кудрявых волосах, в хорошо сшитом сером фраке, то и дело бродит туда-сюда, примериваясь, очевидно, к важному монологу. Сонечка (Полина Филоненко, юная дебютантка), уже в полной "выкладке", гриме и костюме, входя в роль, отчаянно прижимает руки к груди... И наконец откуда-то из подворотни появляется главный герой, гн Раскольников (Владимир Кошевой) - в столь ветхом, оборванном сюртуке, в каком, по выражению Достоевского, "даже и привычный человек посовестился бы днем выходить". Безжалостные костюмеры настояли и на грязном белом воротничке, хотя сам Володя отчаянно умолял хотя бы о чистой рубашке: дескать, уж на прачку-то Раскольникову средств бы достало. Ан нет: в тексте есть прямое указание на ужасающее положение студента: несчастный был столь "задавлен бедностью", что даже на стирку бы не хватило...
Услышав Володины стенания, иной театральный реформатор, у которого Гамлет расхаживает в плавках "Адидас", криво бы ухмыльнулся: какая, к черту, разница? И в воротничке ли дело? Светозаров тем временем уверен, что и в воротничке - тоже: "Пришлось все время наступать себе на горло, следуя роману буква в букву, - такую задачу я себе поставил. Скажем, важнейшая сцена, когда Сонечка читает Раскольникову "Воскрешение Лазаря". Я бы, например, заставил читать ее по слогам, как едва грамотную. По складам читающая русская девочка символизировала бы здесь дохристианскую, неформальную доброту, особого рода народную религиозность, столь свойственную подобным ей людям. Но, к сожалению, это невозможно: Мармеладов, отец Сони, ясно говорит, что пытался пройти с ней курс истории с географией, стало быть, читать-то она точно умела".
Интересно, что подобная въедливость приводит порой к поразительным открытиям. Вроде того, что Свидригайлов на поверку оказывается не пожилым сладострастником, а мужчиной в самом что ни на есть расцвете (вычитано у самого автора) и "мутным", как выразился Светозаров, зеркалом самого Достоевского, а не, скажем, Раскольникова. Что идет вразрез с классическим литературоведением, припечатавшим Свидригайлова как пародию на Родиона Романовича. Напротив, полагает Светозаров, частичная разгадка самого Достоевского - в образе Свидригайлова, с его потаенным, извращенным эротизмом, с вечными фантазмами и, главное, трагической утерей веры, приведшей, как известно, к самоубийству.
Хотя внешне этот герой, выписанный почти как бульварный злодей, на Достоевского абсолютно непохож. Вообще если внимательно читать роман, то выяснится, что Свидригайлов - интересный моложавый блондин (то есть вылитый Балуев), а Раскольников - "замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами" (точный портрет Владимира Кошевого). Правда, никаких указаний на этнический тип Раскольникова у Достоевского нет; и вот здесь Светозаров, мне кажется, слегка лукавит, выбрав на эту роль юного красавца родом из немецкой романтической поэзии. Ибо, полагает Светозаров, Раскольников не есть типично русское явление: топором взмахнул чисто по-русски, зато думал, готовился и рассуждал, каково оно будет, словно немец.
Кстати, о пресловутом топоре. Это сейчас Володя Кошевой (Светозаров заметил его в театре, в спектакле по Оскару Уайльду "Флорентийская трагедия") посмеивается: все, мол, мельчает в наш век, даже топоры ломаются дубль за дублем. Когда же снималась самая, наверное, отвратительная, физиологически невыносимая сцена романа - убийство старухи-процентщицы, - Володя грохнулся в натуральный обморок. Бить человека по голове - даже сделанной из гумоза - оказалось для него сильным испытанием. Странно, но такая сверхчувствительность, обычно не слишком свойственная актерам, лишь укрепила веру Светозарова в правильность своего выбора: ему как раз и нужен был ранимый, тонко чувствующий актер, без штампов и обычных технических приспособлений. Любопытно представить себе психологическую дуэль Раскольникова-Кошевого и Порфирия Петровича-Панина: кто кого? Хотя Андрей Панин внешне совершенно непохож на описанного Достоевским буффона с бабьей фигурой, его энергетика такова, что такой следователь может сломить не одного Раскольникова. Впрочем, Володя Кошевой в восторге: "Панин, будучи большим актером, звездой, никогда не давит на тебя, дает коридор и простор твоему воображению, снимает зажим".
Интересно, что Светозаров, следуя, как он утверждает, роману почти буквально, пытается стереть с него хрестоматийный глянец театральных постановок и экранизаций. Скажем, Пульхерия Раскольникова, мать Родиона Романовича, привычно видится нам в образе добродушной старушки: на самом деле было "старушке" по его подсчетам не больше сорока пяти. Поэтому пригласили на эту роль красавицу Елену Яковлеву. О Свидригайлове и прочих персонажах мы уже говорили; дело, однако, не только в подобиях и сходствах-несходствах. Интереснее другое. За подробной, чуть ли не буквалистской канвой, которую пытается воспроизвести режиссер, кроется нечто иное: трагедия Раскольникова - по Светозарову - это трагедия бездарности. Со страшной путаницей в голове, ни к чему не способного, не умеющего ни за дело взяться, ни университета окончить, ни себя прокормить, ничего... Это, согласитесь, совершенно новая трактовка, отличная от трактовки Раскольникова как неудавшегося русского ницшеанца.
...Выходя из ворот Конюшенного двора, с его промозглой сыростью, грязью по колено и обшарпанными стенами, где, кажется, до сих пор витает дух великого русского писателя, вздрагиваешь, увидя современный Петербург: будто перенесся на 150 лет вперед на машине времени. Как говорит Андрей Сигле, продюсер сериала и композитор, "Петербург, с его высокомерием, имперским равнодушием и казенной невозмутимостью, останется там, за кадром, в воздухе фильма". И, разумеется, в музыке, чьим лейтмотивом и героем, чьим самостоятельным действующим лицом станет этот сумрачный город.
...Когда стало стремительно темнеть и нужно было уходить со съемочной площадки, Светозаров вдруг признался: "Никому не говорил, вам вот первой скажу, чем закончится мой фильм. Представьте каноническую картинку: бескрайние сибирские просторы, берег Иртыша и две фигурки - Сони и Раскольникова, - сидящие на берегу. Так вот, Раскольников, бритый наголо, в кандалах, ничем не будет напоминать здесь евангельского Лазаря. Ведь принято считать, что Раскольников воскрес для новой жизни, покаялся - с тех пор, как услышал из уст Сони библейскую сцену воскрешения Лазаря, началось его возрождение. Нет, не началось. Мой Раскольников хранит память о другом: о ГУЛАГе, лагерях, о том, что воспоследовало после его "частного" преступления; о том, что через сто с лишним лет спустя покаяние не будет даровано никому..."
Что правда, то правда: ХХ век "дописал" историю неудачливого убийцы, предтечи убийц удачливых, убивающих миллионами. "Сейчас трудно кого-нибудь напугать заурядным убийством старушки-процентщицы и даже сестры ее, блаженной Лизаветы", - сетует Светозаров.
Санкт-Петербург - Москва
Диляра Тасбулатова, журнал "Итоги", 4.12.2006