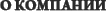Пропавший без вести
Пресса27.04.2010
Анна Фенченко: «Просто не нужно браться за все подряд» 11 мая будет объявлена программа XXI фестиваля «Кинотавр»...11 мая будет объявлена программа XXI фестиваля «Кинотавр», который пройдет в Сочи 6—13 июня. Возможно, в числе конкурсантов окажется и картина Анны Фенченко «Пропавший без вести», впервые показанная в берлинской «Панораме».
Очевидно, что новое российское кино невозможно без зарубежных фестивалей. Именно там зачастую происходят громкие открытия: некогда всех врасплох застал венецианский триумф «Возвращения», о «России-88» заговорили после премьеры на Берлинале, Николая Хомерики оценили прежде всего в Каннах. Именно там «молодой» кинематограф отстаивает свое право на существование: ответом на гневные речи Михалкова и Говорухина стали локарнские призы картины «Бубен, барабан», а фильм «Как я провел этим летом» вряд ли получил бы широкий прокат без участия в Берлинском фестивале.
Похожая история случилась с кинодебютом Анны Фенченко — он еще в черновом монтаже был отобран для участия во внеконкурсной программе Берлинале, хотя в России прокатные перспективы фильма неясны и по сей день. Между тем Фенченко — не новичок в кино: сняла несколько короткометражных картин, работала для телевидения, в том числе и в программе «Куклы» (в 2001—2002 годах). Кому-то покажется знакомой сама фамилия «Фенченко», и неспроста: ее отец Владимир Фенченко — известный преподаватель ВГИКа и ВКСР.
«Пропавший без вести» — картина далеко не телевизионного формата. В определенной степени она вполне вписывается в российскую «новую волну». Это фантасмагорическая история о благополучном программисте средних лет (Андрей Филиппак), который в силу нелепых, абсурдных обстоятельств в одночасье теряет буквально все. Оказавшись вдалеке от дома, скитаясь с чужими людьми по российской провинции, герой заново переосмысливает свою жизнь.
— Вы чувствуете свою причастность к какой-то общности режиссеров, к некоей российской «новой волне»?
— Нет, потому что как режиссер я решаю только свои режиссерские задачи. Я не чувствую, что нахожусь в каком-то контексте. Как ребенок рождается один, так и фильм появляется сам по себе.
— В титрах картины у вас указаны благодарности Николаю Хомерики и Александру Родионову ...
— Мы с ними общаемся, взаимодействуем. Я показывала им черновой монтаж, чтобы они дали свои рекомендации. Не могу сказать, что воспользовалась всеми советами, хотя то, на что обратил внимание Коля, было довольно очевидным, и его мнение окончательно убедило меня в необходимости правок. В фильме слишком педалировалось укрупнение героя, я сократила несколько крупных планов, и действительно, стало лучше.
— Как вы относитесь к обвинениям в «чернухе», которые любят предъявлять молодому российскому кино? Ведь они могут быть адресованы и вашему фильму.
— Мне кажется, что обвинять проще всего. Честно говоря, я не видела многие фильмы прошлогоднего «Кинотавра». Если говорить, например, о «Сказке про темноту» Хомерики, то я считаю, что это очень светлая картина, ее героиня – как цветок на руинах. Именно это светлое начало и есть самое главное в фильме. В конце концов, мы понимаем, в какой стране живем. Мы не можем отворачиваться от реальности, которую встречаем, приехав в провинцию. О чем должен говорить режиссер авторского кино? О том, что у нас нет никаких проблем? Это не намеренное желание показать «чернуху», это пласт, в контексте которого автор говорит о неких существующих проблемах.
— Я слышал, что Валерия Гай Германика защищала диплом у вашего отца.
— Это не совсем так. Она училась и у моего отца, и у Марины Александровны Разбежкиной, но диплом она защищала у Разбежкиной. Мне интересно творчество Германики, ведь она первая в нашем кино стала работать в «документальной» стилистике.
— Вы с самого начала планировали снимать «Пропавшего без вести» в Петербурге, Выборге?
— Нет, совершенно не планировала. Сценарий был написан для Москвы, я нашла его в журнале «Искусство кино». Это был дебют Наташи Репиной, ее дипломная работа на Высших режиссерских курсах. Потом возник продюсер Андрей Сигле. Я видела кинокартины, выпущенные его студией, и знала, что это один из немногих продюсеров в России, который рассматривает возможность работы с авторскими проектами. Поскольку его студия находится в Петербурге, он сразу поставил условие, что картина будет сниматься именно там, что работать будет питерский состав, питерские актеры. На том и сошлись. Но питерские и выборгские фактуры добавили картине драматизма и повлияли, на мой взгляд, на стилистику самой драматургии.
— А как появился Выборг?
— Значительная часть сценарного действия происходила в провинции. Мы выбирали между Гатчиной и Выборгом. Выборг показался нам более эстетичным, мне самой было приятнее находиться в этом городе. Гатчина — это такой Советский Союз, а Выборг — более изысканное и непредсказуемое место. В сценарии была заложена определенная доля условности, и реалистичные советские «коробки» не соответствовали бы духу картины.
— А как вам удалось найти колоритный барак, который появляется в середине картины?
— Его нашел наш художник-постановщик Паша Новиков. На самом деле «барак» в фильме составлен из двух разных построек, это совмещенный объект. Экстерьер, лестницу, вид из окна с вышкой и кухню мы снимали в самом бараке и рядом с ним, а коридоры, комнаты с железными кроватями — в заброшенном пионерлагере.
Дело в том, что этот барак на самом деле жилой дом, как бы страшно это ни звучало. В нем живут старики, взрослые и дети. А еще собаки и кошки, которые иногда попадали к нам в кадр. Большая часть сцен в этом объекте приходилась на ночные смены, и мы не хотели лишний раз тревожить и без того несчастных людей. Когда-то в этом бараке находилась финская психиатрическая больница (наверное, еще с тех пор осталась смотровая вышка во дворе), потом, когда Выборг отошел к Советскому Союзу, здание стало служить общежитием мясокомбината, а после его закрытия оказалось вообще бесхозным, то есть оно не относится ни к какому ЖЭКу. Его как будто нет, но тем не менее в нем живут люди, в совершенно диких условиях: деревянные полы проваливаются под ногами, нет ни отопления, ни канализации, ни воды. При том что здание находится в черте города — пусть на окраине, но все же в его границах. И догадываюсь, что таких бараков по России великое множество.
— В сценарии уже ведь была заложена кафкианская тема?
— Наташа Репина при его написании совсем не опиралась и даже не оглядывалась на творчество Кафки. Честно говоря, снимая фильм, я тоже не думала о Кафке. Да, сценарий был отдаленно созвучен романам писателя — в том числе совершенно открытым финалом. Были схожие элементы, но не более того. Отсылка к Кафке была сделана мною в финале лишь для того, чтобы напомнить, что природа кафкианского конфликта процветает в современном обществе. Ничто никуда не ушло. Равнодушие, отстраненность, неопределенность, обреченность, в конце концов, остаются нашей общей болезнью, которая за прошедший век, скорее всего, только обострилась. Кроме того, в финальной цитате из Кафки есть некоторое противоречие, столь свойственное абсурдизму, элементы которого заложены в картине. Но фильм отличается от любого из романов Кафки: его герой всегда представлен как жертва обстоятельств; а наш герой отчасти сам виноват в том, что с ним приключилось. Поэтому не стоит столь буквально соотносить этот фильм с творчеством Кафки.
— Когда вы снимали игровой дебют, у вас не происходило сознательного отталкивания от телевизионного формата, не пытались ли вы снять специально не так, как обычно снимают на телевидении?
— Нет, я не пыталась намеренно отречься от опыта, полученного мною на телевидении. По одной простой причине — все, то есть абсолютно все свои телеработы я старалась снимать как кино. Другое дело, что средства и время производства были ограничены, и, соответственно, меньше возможностей, чем на кинокартине. В работе над фильмом мы исключили единственный принцип, который можно считать телевизионным, — собирать материал с большим запасом, когда сцена — вся целиком — снимается на разных планах. Когда имеешь дело с кинопленкой, транжирить ее таким образом просто неразумно. Но, честно говоря, и на телефильмах, где цифровой носитель позволял снимать больше материала, я этого принципа не придерживалась. Мы с оператором всегда имели раскадровки и понимали, что конкретно нам необходимо снять. Сценарий «Пропавшего без вести» тоже был полностью раскадрован.
— Вы планируете дальше снимать кино или работать на телевидении? Иначе говоря, вы не устали от телевидения?
— Я не работала на телевидении, я работала для телевидения. Когда-то снимала программу «Куклы», которая была мне интересна, — в ее основе тоже лежали элементы абсурда. Сняла несколько документальных фильмов — хотя, опять же, телевизионного формата, но и это стало для меня дополнительным опытом. На самом деле я с удовольствием снимала телефильмы и не считала их для себя какой-то малозначительной работой. Но, разумеется, в первую очередь я хотела бы снимать кинофильмы, поскольку в них больше возможностей, у них больше перспектив. Начиная работу над «Пропавшим без вести», я, конечно, переживала, боялась, что мне трудно будет преодолеть узость телевизионного мышления.
— Вас не напрягают ограничения, которые задает телевидение?
— Я считаю, что и в этих рамках можно решать интересные задачи. Главное — не растерять при этом творческую свободу. Хотя, если я не утратила ее за десять лет работы на телепроектах, значит, можно совмещать. Режиссура — это моя единственная профессия, и с ее помощью нужно зарабатывать на хлеб. Такова жизнь. Но всякий раз я стараюсь ставить перед собой какую-то новую задачу, и каждую свою работу, если уж я за нее берусь, делаю искренне и настолько хорошо, насколько позволяют условия. Я никогда не считала, что можно что-нибудь состряпать по-быстрому, только бы денег сорвать. Такой подход, на мой взгляд, унизителен для режиссера.
— А если бы вам предложили снять сериал?
— Нет, я бы не согласилась, хотя не раз предлагали. Даже в период безработицы и безденежья я отказывалась от таких предложений. Берусь только за штучную работу и не могу стоять на конвейере. Это мое отношение к профессии, моя принципиальная позиция. Я человек педантичный, а в сериалах режиссер должен идти на жесткие компромиссы, решать задачи каким-то примитивным способом. Я все равно стремлюсь к совершенству, хотя и понимаю, что оно недостижимо, сериалы же изначально не дают такой возможности. Потом, это довольно энергозатратно: приходится работать в очень трудных условиях. Когда люди снимают по полгода, по 16 часов в сутки, выдавая 35 минут полезного материала в день, и чуть ли не с гордостью говорят, что на съемочной площадке падают в обморок, — это же просто катастрофа. Это молотиловка, и люди ведь не зарабатывают там каких-то бешеных денег, ради которых стоило бы так гробить себя. Правда, сериал сериалу рознь. Есть дорогостоящие проекты, с хорошими условиями, но мне таких никогда не предлагали. И вряд ли уже предложат, ведь я дискредитировала себя в глазах потенциального заказчика, сняв, как это сейчас говорят, артхаусное кино.
— А к работе на «Куклах» вы не относились как к серийной? В чем было ее отличие?
— Дело в том, что каждая из программ была самостоятельной, то есть, по моему определению, штучной работой. По большому счету, это были отдельные короткометражки, для каждой из которых строилось по шесть новых объектов в огромном павильоне на «Мосфильме». И в каждой из программ стояла своя стилистическая задача. Довольно часто сценарии опирались на известные фильмы, но интерпретировались они, разумеется, в пародийном ключе. К примеру, в основе снятых мною программ лежали такие картины, как «Сердце ангела» и «Маленькая Вера». Это же совершенно разные фильмы, и программы, соответственно, решались в индивидуальном порядке — ритмически, стилистически и по звучанию. Конечно, в работе с куклами имелась своя специфика: их было довольно сложно перемещать в кадре, поскольку за каждой из них, как правило, работало два актера. Именно поэтому в программе было довольно много статичных кадров, как это часто бывает в сериалах. То, что действительно делало процесс создания «Кукол» схожим с сериальным, — это строго ограниченное время на каждом из этапов работы. И это естественно, ведь мы работали «под эфир». В субботу вечером проходило звуковое сведение, а уже в воскресенье вечером программа была на телеэкране. Но даже при таком лимите времени режиссер проходил через все стадии создания программы: подготовка, речевое озвучание, съемка, монтаж и сведение. То есть не было вот этого сериального разделения труда, когда один снимает, а другой монтирует.
— На самом деле многим молодым режиссерам приходится идти на телевидение, чтобы заработать деньги? Как это сказывается на их творчестве?
— Мне кажется, что это нормальная практика: многие американские и европейские режиссеры работали на телевидении. Другое дело, что ты будешь зажат какими-то рамками, но почему бы нет? Конечно, если человек долго работает в телевизионном формате, он может занизить свою планку, но, на мой взгляд, развиваться можно в любом формате. Я думаю, что сознательному человеку это только поможет стать профессионально крепче. Просто не нужно браться за все подряд. Если человек хочет остаться в профессии, он вынужден так или иначе в ней работать. Если есть возможность укрепить свои навыки, то нужно ею пользоваться.
— Уже прошло некоторое время после вашего участия в программе Берлинале. Скажите, оно вам чем-то помогло? Почувствовали ли вы, например, что как-то изменилось отношение к вам?
— Пока я совершенно не заметила никаких перемен. Наверное, еще рано. На меня не посыпались предложения, я не почувствовала повышенного внимания или особого уважения. Все мое нынешнее взаимодействие с продюсерами опирается на договоренности, которые были достигнуты еще до Берлина. Кроме того, сейчас не очень благополучный период для производства: оно только начинает просыпаться, и все радуются любой возможности снять фильм.
Максим Туула, www.openspace.ru, 27.04.2010.