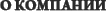Сад
Пресса15.06.2007
Размягчить нравы людей (интервью с Сергеем Овчаровым) – Кто-то из актеров уже утвержден, или вы это пока не разглашаете? – Нет: пробы еще не до конца завершены, могут быть изменения. В фильме заняты в основном питерские артисты.– Будут ли съемки на натуре?
– Оператор уже ездил на Дон, снял там сад, пейзажи... Вся сложность в том, что вишневые сады цветут очень ограниченное время. Снять фильм за этот короткий срок не получится. К тому же сейчас сохранились в основном колхозные сады.
– На сайте студии Proline-film опубликована ваша заявка, где больше всего написано про эстетику будущего фильма. И мне кажется, что сочетание “Чехов – клоунада” весьма органичное. Но согласятся с этим далеко не все...
– В принципе, это будет не клоунада как таковая. У Данте есть определение – “Человеческая комедия”. Хотя в фильме и присутствуют элементы клоунады, но ее будет немного. В основном это смех сквозь слезы, слезы сквозь смех. Это связано и с психологией... Как это ни парадоксально, к моему жанровому решению ближе всего Чаплин и Висконти. Должно быть и смешно и трагично. От актеров потребуется много усилий.
– Еще в релизе говорилось о том, что “Вишневый сад” во многом комедия масок, проводились параллели с del arte...
– Чехов ведь писал фарсы и водевили одно время. Потом он написал четыре очень необычные пьесы, две из которых назвал комедиями. И жутко был недоволен, когда юмор выпаривался из этих произведений. Но “Вишневый сад” – абсолютная комедия, в отличие, например, от “Чайки”. Потому что структура пьесы напоминает структуру comedia del arte: есть разнуздавшиеся слуги, и есть господа, которые декларируют свою принадлежность хозяевам, но уже таковыми не являются. Потом есть совершенно очевидные ссылки на Пьеро, Коломбину, на Арлекина особенно... Но это все формально. На самом деле это человеческая, психологическая комедия. И она связана с душевными переживаниями, с влюбленностью героев друг в друга, с невозможностью найти себе пару.
– То есть подобное решение продиктовано самой пьесой?
– Я вообще за то, что жизнь – это смешение жанров. Не бывает в жизни чистого детектива или одной комедии, действительность смешивает все самым причудливым образом. Я и пытаюсь этому следовать. “Как в жизни” – это и есть лучшее жанровое определение. А это произведение очень загадочное, очень неуловимое, как сама жизнь. “Вишневый сад” много раз ставили в театре, а экранизация была всего одна. Я сначала удивился, почему так, а потом понял: это почти невозможно в техническом отношении. И еще очень сложно расшифровать это произведение. В нем очень многое спрятано, надо производить своеобразные археологические раскопки. Я и производил: сначала изучил максимальное количество известных постановок, версий, трактовок... Потом очень долго болел этим. Делать ничего не хотелось, казалось, что все уже сделано. А потом, когда я переболел этим знанием, вдруг глаза открылись, и я увидел какие-то новые возможности...
– До начала съемок фильм уже существует у вас в голове?
– Очень точна фраза по этому поводу: “Фильм – могила замысла”. Режиссер что-то придумывает, а когда начинает делать, возникает столько производственных препон, что многое теряется, уходит. Получается так, как получается. Иногда, правда, “могила” получается очень красиво украшенная... И потом, Шекспира можно очень жестко определить, “про что это”. А Чехова нельзя – это уже поэзия. Шекспир писал по законам Аристотеля, у него все выстроено по математическим законам. А начиная с Чехова, Ибсена конфликты происходят не между героями, а внутри каждого героя. Здесь “дедраматические” законы.
– А о чем вы будете снимать, что для вас самое важное в пьесе?
– Это последнее произведение Чехова, и он писал его как своеобразное завещание людям. Самая большая ошибка – когда эту пьесу начинают делать социальной. Чехов – такой автор, у которого нельзя “вычленить мораль”. Там есть круг тем... Как ни банально прозвучит, это история о любви – обо всех ее ипостасях. О любви человека к человеку, Бога – к людям, о плотской, о неразделенной любви. Вот это, наверное, ближе всего: история о неразделенной любви: Бога – к людям, а людей – друг к другу. Все произносят монологи, которые кажутся диалогами, – это связано с тем, что люди не обретают партнеров, и они сами в этом виноваты. И ведь и в жизни так же, причем зачастую даже там, где люди живут семьями...
– А почему именно сегодня вы взялись за “Вишневый сад”?
– Сейчас, мне кажется, это невероятно актуальное произведение. Наблюдается страшное расслоение общества. Например, среди молодежи есть невероятно умные и интересные ребята, которые в своем развитии далеко опередили нас в том же возрасте... Но им противостоит масса бездуховных людей. И если вторая часть общества будет превалировать над первой, это приведет к катастрофическим последствиям. Сверхзадача этого произведения – вернуться к искусству. Сейчас расплодилось много фильмов, которые похожи на искусство, но на самом деле там нет ни одухотворенности, ни подлинного сопереживания героям. Это как генная модификация, после которой апельсины, яблоки и груши одного вкуса. Сейчас мы качнулись в сторону коммерции. Но догнать Америку на этом поле невозможно. Наш путь все-таки – путь искусства, путь души, взволнованности, чувственности. Герои Чехова – обычные люди, но они так горят, так страдают... Тарковский замечательно говорил, что главная задача искусства – размягчить нравы людей.
– А вы уже представляете прокатную судьбу фильма?
– Я хочу снять достойный фильм, а про прокат я не думаю. Мы не можем позволить себе мощные пиар-акции, у нас достаточно скромная картина. Хотя иногда и вовсе нет раскрутки, а зритель все равно идет. На телевидении приходилось слышать, что зритель у нас недалекий, но я с этим не согласен. После “Идиота” Бортко люди, например, потянулись в библиотеки – прочитать это произведение Достоевского.
– Но довольно забавно было наблюдать, как в одном вагоне метро три-четыре человека читают именно этот роман.
– Знаете, было время, когда я с печалью взирал на картину всеобщего оглупления в нашей стране. А потом меня приятно удивило, что есть и новые социальные тенденции. Я видел, как 9 мая молодые ребята вполне панковского вида вдруг отнеслись с уважением к пьяненькому старичку, ветерану войны, который играл на гармошке. Не было иронии или брезгливости по отношению к нему, а было даже какое-то чувство нежности. Это неожиданно и человечно. А человечность – это всегда хорошо.
– И вы думаете, что с помощью искусства можно объединить людей?
– А как же! Есть фильмы, которые, пусть на мгновения, объединяют людей. Людей объединяет сопереживание героям. Если это происходит, значит, не все потеряно, значит, еще есть точки соприкосновения.
– А вы думали над тем, как бы сам Чехов воспринял ваш фильм? Театральные постановки ему не нравились...
– Не надо забывать, что это пьеса. Драма изначально отдается во власть трактовок. Но, действительно, Чехов и с репетиций уходил, и писал об этом довольно жестко. Он написал даже не “Станиславский с Немировичем-Данченко”, а “Алексеев с Немировичем не вчитывались в мою пьесу, не поняли ее”. Я попытался разобраться, что же они не поняли, и кое-что раскопал. У них, конечно, была интересная интерпретация, но... Я считаю, что “Вишневый сад” – вершина творчества Чехова. Есть режиссеры, которые ставили его по восемь раз. Как бы я сейчас его ни интерпретировал, у меня есть в запасе еще трактовки. Пьеса дает большую свободу, какие-то вещи тут не прописаны, есть большой простор для новых прочтений.
– Насколько сильно пришлось менять, сокращать текст?
– Текст я не менял. Иногда лишь герои повторяют некоторые свои фразы. А что касается объема – это самая главная проблема. Многолетний опыт показал, что любая пьеса – это всегда две серии. Если даже просто прочитать пьесу в лицах, она дольше будет звучать, чем односерийный фильм. Мне приходилось несколько раз сценарий переписывать. Сокращать очень трудно, в пьесе многое зарифмовано. А есть ведь еще вещи, которые в пантомиме происходят... В кино все-таки другие ритмы. Я, например, все действие сконцентрировал вокруг одной весны. Ведь кино и театр в чем-то даже враждебны.
– Когда ждать фильм?
– Сделать мы его должны до конца года, а когда он выйдет к зрителю, пока сложно сказать.
Константин Федоров, Free time, июнь 2007