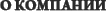Гадкие лебеди
БонусыАФИША

КОНЦЕПЦИЯ
«Далеко не каждый человек в своей жизни встречается с Тайной. С Большой Тайной, похожей на распахивающуюся под ногами бездну, от необъяснимого ужаса перед которой пробирает дрожь. Чтобы выдержать такую встречу, человеку требуется вся его сила духа, все мужество. Наша история - именно об этом. О встрече человека с Тайной, с Будущим, с новым миром, в котором ни нашему герою, ни его современникам, возможно, нет места», - комментирует замысел режиссер Константин Лопушанский.
Повесть братьев Стругацких «Гадкие лебеди», написанная в конце шестидесятых годов, долго ходила в списках, однако, опубликованная в эпоху Перестройки, до сих пор не утратила ни эмоционального воздействия, ни актуальности. Напротив, заложенные в ней идеи и скрытые в них глубинные смыслы проявляются с новой остротой.
С поддержкой этого проекта выступил Михаил Сергеевич Горбачев, фильм получил патронаж его Фонда и общественной организации Международный Зеленый Крест.
Режиссера-постановщика Константина Лопушанского, Бориса Стругацкого и продюсера-кинокомпозитора Андрея Сигле, связывает еще одна творческая работа – «Письма мертвого человека» (1986 год).
Борис Стругацкий благословил сценарий фильма «Гадкие лебеди», написанный Константином Лопушанским и драматургом Вячеславом Рыбаковым. «Из повести взята гениальная коллизия - столкновение, доведенное до резкого противостояния, детей с гениальным интеллектом и цивилизации, которая чувствует в них смертельную опасность», - комментирует Андрей Сигле.
Зрелищность, научная фантастика, тайна и напряжение, сопровождающие события фильма, а также драматические повороты в судьбах героев, по мнению авторов, позволяют создать увлекательный и динамичный фильм. Интонация картины - «тайна», «предчувствие необъяснимого», «мистическое ожидание».
Съемки
По словам создателей картины, самым важным было передать образ тайны, которая окутывает город N. Образ, возникающий посредством странного инфракрасного освещения, с помощью явлений, сотканных из фактуры воды в ее всевозможных вариациях.
Дождь, туман, изморось – водная стихия во всех ее проявлениях, которая размывает этот город, превращая в нечто исчезающее, - вот ключ к изобразительному решению фильма.
Фильмы Константина Лопушанского (впечатления, мнения)
Даниил Гранин назвал его дипломную короткометражку «Соло» (1980) лучшим фильмом о блокаде, его полнометражный дебют «Письма мертвого человека» (1986) стал эталоном изображения апокалипсиса в кино. Его имя стоит в одном ряду с именами лучших арт-хаусных режиссеров Европы и Америки.
Недвига Алексей
«Иллюзион» № 5 (13) 2004 г.
...Лопушанский обладает уникальным авторским почерком, его творчество сегодня можно рассматривать как самостоятельное культурное явление, как особое направление в российском кинематографе.
Мария Смирнова-Несвитская «Невское время», 5 февраля 2000
...Лопушанский не бытописатель, его всегда привлекают философские проблемы, его фильмы-притчи пронизаны размышлениями о судьбах человечества, о моральной ответственности людей за совершаемое в мире.
Вадим Брусянин «Телевидение», № 33, 2000
...Константин Лопушанский — эмблематичная фигура для русского авторского кино, бескомпромиссный хранитель заветов своего учителя Андрея Тарковского. Но зрители его нового фильма «Конец века» вряд ли узнают привычного по «Письмам мертвого человека», «Посетителю музея» и «Русской симфонии» режиссера Апокалипсиса, конца света. Медленное построение на сверхкрупных планах женских лиц, психологическое, погруженное в характеры кино напоминает, скорее, «Персону» Бергмана.
Михаил Трофименков «Pulse», октябрь 2000
...Ученик Тарковского и приверженец философии стоиков, Константин Лопушанский кажется слишком погруженным в профессию. Даже пребывая в длительном монологе, где мысли об искусстве щедро пересыпаны философскими и музыкальными терминами, Лопушанский ухитряется оставаться в своей «раковине». Нежное и трепещущее ее содержимое дано узреть лишь терпеливым «естествоиспытателям», тихо притаившимся в темных глубинах зрительного зала.
Татьяна Позняк, «Собака.ru»№ 3/7 2001
...Из всего постсоветского кино Лопушанский единственный, кто пытается осмыслить исторические сдвиги с позиций религиозно-философского мировоззрения - позиций фундаментальных. Это позволяет ему за лесом увидеть деревья и сообщает фильму характер «послания», которое неизбежно обвинят в морализаторстве. Он вплотную подошел к излюбленному «патриотами» тезису об истреблении нации и ее ментальности - но есть разница: истребляет не кто-то враждебный, а мы сами. «Это психология самоубийц», - говорит профессор. «Это психология половины населения моей страны», - отвечает героиня.
Валерий Кичин «Известия», 8 июня 2001
...Лопушанский меняется с каждым фильмом, что в России само по себе - непозволительная роскошь. Массовая культура требует неизменности, будь то неизменность поп-певца или театрального режиссера «для интеллектуалов». А пластичный Лопушанский снимает большое авторское кино европейского уровня, что предполагает зрительскую чуткость к подвижности стиля, к нюансам и оттенкам. Лопушанский в «Конце века» возвращается к истокам метафизического направления: к ощущению, быть может, нарушенной, но неистребимой гармонии мира; к внятности и простоте рассказанной истории; к невозможности, наконец, дать ответы на вечные вопросы.
Михаил Трофименков, «СК новости» 21 декабря 2001
...Что касается новой работы Лопушанского, то она кровоточит болью тех русских, которых, по крайней мере, начиная с декабристов, интересовали лишь подлинно гуманистические ценности. Те самые ценности, что, может быть, далеко не всегда имели прямое отношение к действительности, но ни за что не предавались и были всегда дороже их носителям всяких иных благ. Россия без мечты о Царствии Божием на Земле кажется оскопленной, потерявшей свое странное, более или менее привлекательное для посторонних, но всегда особое лицо.
Ольга Суркова, «Искусство кино» №11, 2001
...Между тем, Лопушанский не из тех, кто мог бы сделать маргинальность своим коньком. Глобальность его художественных претензий не только не сошла на нет, но даже выросла, и представить Лопушанского, как того же Сокурова, автором параллельных маленьких проектов, документальных или игровых короткометражек совершенно невозможно... И если речь заходит о «конце века», это конец по Лопушанскому, который может тянуться еще бесконечно долго. В том числе и давно объявленный конец авторского кино.
Андрей Плахов, «Коммерсантъ», № 13, 2002
...Что же такое «Конец века»? Фильм, в высшей степени незаурядный с точки зрения режиссуры, актерских работ и редкой по нынешним временам социальной вменяемости и ответственности...
Михаил Трофименков «Искусство кино», № 4 2002
...Картина завораживает, завораживает именно своей болью, искренностью, честностью. Да, жизнь — это тяжкое испытание, мы просто не хотим и не любим об этом говорить.
Марина Мурзина, «Аргументы и факты», № 8 2002
...Режиссер ведет серьезный и трудный диалог со зрителем. Он отстраняет знакомое, выводит его из автоматизма восприятия, напоминая людям о смысле их существования на земле, о трудной миссии всегда оставаться Человеком. Лопушанский верит в миссию киноискусства. Он не идет ни на какие компромиссы - разрабатывает свою тему, сохраняет верность своей образности и в этом - драматизм его творческой судьбы.
«Кинопроцесс» № 2 2002
Я считаю, что Лопушанский - большой мастер. Мне всегда невероятно интересно смотреть, что он делает. Как он умеет выстроить кадр, как он работает с актерами. Мне стало плохо с сердце от того, на каком уровне искусства была выполнена в картине "Письма мертвого человека" атомная катастрофа. Я поставил себя на место этих людей, ощутил, что это могло быть со мной. Это редкость в искусстве. В картине "Посетитель музея" - он свою планку не снизил.
Алексей Герман, кинорежиссер, Россия "Сеанс" № 1
Фильм меня буквально потряс, перевернул душу... Я увожу из Москвы мечту о том, чтобы «Письма мертвого человека» посмотрел каждый американец.
Грегори Пек, актер, США "Искусство кино" № 4, 1987
Мне представляется, что фильм "Письма мертвого человека" являет собой одну из вершин мировой кинематографии.
Аркадий Стругацкий, писатель, Россия "Экран" № 17, 1986
"Письма мертвого человека" - это великий визионерский фильм... Он переносит будущее в наше настоящее время. Это письма адресованы всем нам, живущим.
Вим Вендерс, кинорежиссер, Германия "Т1р",1987
...Когда я смотрел фильм "Письма мертвого человека" в кинотеатре, ни один человек не сдвинулся с места, пока последние титры не угасли на экране. ...Все, кто ищут признаки новой жизни в России, должны начать с этого фильма.
Эндрю Вилсон "Обсервер", сентябрь 1986
...Знаток литературы, которому удается соединить Достоевского и Брэдбери, человек широкой музыкальной культуры, который умеет, кстати, процитировать Оливье Мессиана и Габриэля Форэ. Константин Лопушанский является, прежде всего, мастером создания образа, композиции кадра, безупречно вписывая свои персонажи в декорации. Значимость интерпретации выбранной темы не уступает у него ее важности. Ибо, подобно Бергману и Брессону, режиссерам, которых чаще всего упоминает Лопушанский. кино не является для него ни источником развлечения, ни поводом к упражнению в стиле, пусть даже блистательному.
Жан Рой "Канны-87", официальный каталог
Режиссер стремится продолжить в кино традиции Андрея Тарковского с его нравственными проблемами. Картина "Посетитель музея " заслуживает внимания зрителей и высокой оценки критиков.
Марина Влади, актриса, Франция "Жизнь", 23 августа, 1989
Вим Вендерс смотрит на фестивале только этот фильм. Он, как в трансе, выхватил только этот единственный фильм, оправдывающий посещение фестиваля. На два часа действительность не стремится спастись бегством из кинозала, она здесь, затаив дыхание. В течение двух часов зрителя не покидает уверенность, что фильмы могут быть чем-то большим, чем товар. А именно - Искусством. Таким же важным как хлеб.
"Посетитель музея" Лопушанского - это кино будущего, кино Апокалипсиса. Он оставляет в стороне перестроенный реализм, критику реально существующего социализма, так же, как и глупо-спекулятивное голливудское кино. Он повествует о конце цивилизации на Востоке и на Западе.
Образы Лопушанского, коричневые и серо-желтые, со взглядом, будто пораженным кислотой, появляются на окраине пространства по ту сторону технологического разума, который давно уже перешел в область глобального умопомешательства. Фильм Лопушанского - это драма о спасении без спасения.
Маттиас Матузек, Журнал "Шпигель", 24.07.1989
...Я глубоко поражен увиденным. Это превзошло все ожидания и отличается от них. "Посетитель музея" - это авторский фильм крупного художника, он не отпустил меня до последнего кадра.
Д-р Вольфганг Пачке "Второе немецкое телевидение ФРГ"
...Впечатление потрясающее, я глубоко взволнован. Фильм "Посетитель музея" устанавливает контакт и с сердцем, и с разумом. ...Непостижимо, как выполнены съемки. Это настоящая стихия, библейская земля.
Д-р Норберт Шнайдер, продюсер, ФРГ "Первые впечатления", "Союзинформкино", июнь 1989
...Невозможно не оценить драматическую мощь "Посетителя музея", которая усиливается удивительной партитурой Альфреда Шнитке, и идейную и социальную значимость этого неординарного фильма.
Марсель Мартен "Лэ Фильм", 1990
...Константин Лопушанский не скрывает своего интереса, синкретического по своему характеру, к различным религиям. Идея Прогресса, не столько духовного, сколько материального, идея, развивающаяся со времен Возрождения, означает для него начало конца.
Лоран Даньелу, "Кайе дю Синема", 1990
Лопушанский апеллирует к универсальной памяти человека 20 века, несущей не столько знание о прошлом, сколько ощущение потери духовных ценностей. Также, его предвидения - не что иное, как "воспоминания о будущем".
Андрей Плахов, кинокритик, Россия "Фильм" №8, 1989
В отличие от режиссеров новой формации, которые делают фильмы, Лопушанский по старинке "делает кинематограф". Каждая его новая работа без зазоров прикладывается к предыдущей - сам Брессон бы позавидовал. Перед нами реликт авторского кино. Тем более отрадно, что К.Л. (кинематограф Лопушанского) не деградирует и не стагнирует. Приятно, что в "Русскую симфонию" вторгаются гротеск, черный юмор, слегка безумные культурологические игры.
Андрей Плахов "Сеанс" № 10, 1995
"Русская симфония" - фильм беспощадной самокритики. Почти самоубийственной. Константин Лопушанский впервые дистанцирует себя от своих героев, препарирует и высмеивает (сатира и сарказм впервые проявляются в его творчестве).
Михаил Трофименков, кинокритик, Россия "Сеанс" № 10, 1995
Фильм Лопушанского - один из самых ярких фильмов 1994 года, в нем есть и ирония, и тонкое чувство фальши. Воистину, с народовольческим прошлым мы прощаемся, смеясь. Интеллигенция, которая всегда испытывала чувство вины перед народом, теперь может успокоиться. За семьдесят пять лет народ сделал все, чтобы освободить интеллигенцию от этого бремени вины. За новообразованной общностью - действительно, увы, будущее. Браво, Лопушанский.
Сергей Шолохов, кинокритик, Россия "Сеанс" № 10, 1995
В программе "Берлинале-Форум" наибольшее впечатление производит фильм Константина Лопушанского "Русская симфония", многогранный и по эстетике, и по содержанию.
Хайке Кюн "Франкфурте. Рундшау", 16 февраля 1995
"Русская симфония" К.Лопушанского - "глас вопиющего в пустыне", вопль обличения, по силе сопоставимый с пророческими стенаниями П.Чаадаева или авторов сборника "Из глубины". Фильм этот пророческий не только в библейском понимании пророчества как обличения, но и, увы, в более расхожем смысле предсказания будущего. Оно сбылось очень скоро, когда спустя всего несколько месяцев после выхода картины авиабомбы наших "борцов за демократию и реформы" начали падать на детские дома в Чечне.
Лопушанский показал то, что все мы знали, но как-то старались вытеснить из сознания, что главная стихия новейшей русской революции, так же как, впрочем, и многих предыдущих исторических катаклизмов в России, -ложь. Сделал он это виртуозно: сняв слой за слоем, как чистят луковицу, все социальные и временные пласты начиная от наших дней - до Куликова поля.
А.Еремин, Н.Сиривля "Искусство кино" № 2, 1995