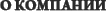Сад
по мотивам пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад»
Бонусы
АФИША

Эта новая версия "Вишневого сада" Антона Павловича Чехова, как нам кажется, максимально приближена к замыслу писателя, который был крайне неудовлетворен прижизненными постановками данной пьесы. В письмах он писал: "пьеса моя пойдет успеха особенного не жду, дело идет вяло". "Вчера шла моя пьеса настроение у меня поэтому неважное" или "Вот хотя бы "Вишневый сад" разве это мой "Вишневый сад"?... все это не мое это серенькая, обывательская жизнь но это не нудное нытье меня то делают плаксой, то просто скучным писателем а я написал несколько томов веселых рассказов. А критика рядит меня в какие-то плакальщицы!..."
Вишневый сад в театре и в кино
История «Вишневого сада» в театре началась во МХАТе в 1904: Станиславский и Немирович-Данченко поставили вымоленную у автора пьесу о замене старой, уходящей эпохи приходящей новой. Поначалу за «Вишневый сад» боролись как за незаслуженно оболганный шедевр — в неприятии классической трактовки иные заходили далеко: как режиссер Лобанов, в 1931 году поставивший
пьесу в Студии под руководством Рубена Симонова, или как его знаменитый коллега Лукино Висконти, открывший почти революционным воплощением пьесы свой Театро Стабиле ди Рома в 1966. Позже художники сменили тональность: хоть время от времени «Вишневый сад» и звучал политической декларацией, (как в случае со спектаклем чеха Отомара Крейчи, в 1991 вернувшимся в обновленную Чехию именно с этой премьерой), на то была скорее воля времени, нежели желание постановщика. «Вишневый сад» Эфроса
(Театр на Таганке, 1975 год) был мало привязан к эпохе в буквальном смысле; еще меньше эпоха волновала режиссера Сэма Мендеса, в 1989 году поставившего «Вишневый сад» в лондонском театре «Олдвик». От времени и быта ушли великие режиссеры Питер Брук и Джорджо Стрелер: Брук ставил «Вишневый сад» дважды, и оба раза — как «поэму жизни и смерти»; «Сад» Стрелера был воздушным, эфемерным, прекрасным — режиссер вел беседу об общечеловеческих ценностях, не обустраивая быт, а воспаряя над ним. Относительно недавняя (2005 год) постановка Эймунтаса Някрошюса явила миру «Вишневый сад» опять как трагедию — с изысканной Раневской-Людмилой Максаковой и непривычно-нежным Лопахиным Евгения Миронова. «Сад» ставили Олег Ефремов, Леонид Хейфиц, Галина Волчек, Адольф Шапиро — в театре. Полноценной экранизации «Вишневый сад» до сих пор был удостоен только раз: в 2000 году Михалис Какояннис поместил историю в пышно цветущие болгарские сады, каких никогда не бывало в России. Но в целом киноистория «Вишневого сада» до сих пор была бедна — если не считать отражений, которые, если вглядеться, видны в самых потаенных уголках мирового кинематографа.
Сергей Овчаров
«Тяжело, мучительно умирая, Антон Павлович Чехов оставил нам свое духовное завещание — комедию «Вишневый сад». Однако самое поразительное, что завещание это написано не только с провидческой, апокалиптической интонацией, но и с озорством, юмором, оптимизмом, надеждой.
Не зря свою пьесу Чехов назвал комедией. «Вишневый сад» действительно комедия — высокая, философская, психологическая, а местами фарсовая и «низкая», комедия с падениями героев и палочными ударами, вспомните, как Петя Трофимов падает с крыльца, а Варя бьет Лопахина кием.
Замечу — наш фильм не экранизация. «Сад» создан по мотивам пьесы Чехова. Нашей основной задачей было обратить внимание на то, что делает это произведение актуальным и в наше время. Ведь мы живем в эпоху, когда «сшиблись» Бездуховность и Духовность. И первая сильно теснит вторую. Деньги сейчас, и это уже ни для кого не секрет, многим заменяют совесть, алчность — щедрость, агрессия — доброту, жестокость — чувствительность, любовь — расчет, жлобство — воспитанность, а сострадание — эгоцентризм. Философ Ницше восклицал когда-то: «Вся эта сострадательность! Любовь к ближнему! Эгоизм и гордыня — вот хозяева мира.» Но он восклицал с иронией. Мы же живем во время, когда веками с трудом сохраняемые принципы человечности и гуманизма подвергаются осмеянию как устаревшие и даже постыдные. Стыд и совесть не в чести. Демагогия и ханжество стремятся заменить их.
Идет битва и в чеховской пьесе. Хотя в драматургии «Вишневого сада» герои не конфликтуют друг с другом в привычном для нас виде. Здесь «сшибаются» не они, а черты их характеров. Совесть бьется с корыстью и бередит душу, неразделенная любовь и сострадание сиюминутно облагораживают сердце. Трепет порождает обаяние. Однако доброта, влюбленность и одухотворенность героев не в силах противостоять миру денег. Сад будет продан, дом сломан, герои оторваны друг от друга и «рассеяны по лицу земли». Мало быть «хорошим», надо бороться за свой сад, дом, семью, за ближнего своего. Герои «Вишневого сада» на это не способны. Поэтому даже устремленные в будущее мечтания Пети и Ани бесплодны — ведь они безразличны к саду здесь и сейчас. Они «не понастроят новых садов». А если им это удастся, потеряют их так же, как потеряла свой сад Раневская.
Прошедший век в истории нашей страны — горькая цепь потерь малых и больших «садов». Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Если бы у нас была возможность восстановить все, что было построено на нашей земле и кануло в небытие, выращено, а затем беспощадно вырублено... Думаю, при виде такой картины мало кто не испытал бы культурного потрясения. Если бы не было этих жертв, сколько бы миллиардов людей населяло общий наш дом. Увы. С параноидальной настойчивостью сад вырубается, дом разрушается, жители разбредаются.
Мы надеемся, что наш фильм станет тем любовно, рукотворно созданным кирпичиком, который будет уложен в вечно недостроенное здание человечности.
Как вы решились на новое прочтение пьесы?
Это не новое, а чеховское прочтение, смею надеяться. Мне кажется, я хорошо понимаю Чехова, потому что у нас много общего — мы оба вышли из гущи народной. Он был разночинцем — и я разночинец. Чехов был с юга, и я с юга. Он дворянство получил за свою литературную деятельность, и я человеком стал, потому что занимался искусством. Я смотрю на «Вишневый сад» с юмором — это же не трагедия вовсе, а настоящая человеческая комедия. Почему все делают из него такую пафосную, трагическую историю? Сам Чехов был очень недоволен тем, что его пьесу чрезмерно драматизируют. На Станиславского за это очень обижался. Станиславский увидел в «Вишневом саде» трагедию Гаева и Раневской, по сути, свою собственную трагедию — он же сам был из касты господ. А я-то современный человек, и предки мои вовсе не из гаевых, так что мне интересны все герои. У меня слуги переживают не меньше, а может, даже и больше, чем господа; это для них большая драма, чем для господ. Раневская в Париж уедет, Гаев в банк устроится, а куда денутся эти старые слуги — на улицу пойдут с сумой?
Насколько вольно вы обошлись с текстом?
Я снимал не по сценарию — все время держал в руках текст пьесы и по нему выстраивал фильм. Ничего не убрал, наоборот, добавил. В пьесе есть два героя — «революционер» Петя Трофимов и «ницшеанец» Епиходов, которые были слишком опасны для того времени, поэтому просто не могли быть прописаны как должно, Чехов позволил себе лишь намеки: и Епиходов напрямую ничего цитировать не имел права, и Петя революционных лозунгов не выкрикивал. Чего Чехов не мог сказать, я сказал. У меня подтекст — гораздо более жесткий — очевиден. Мы знаем, чем все закончилось — ницшеанство, под знаменем которого прошел ХХ век, революции 1905-1907-го, жуткий террор, последовавший за ними.
Это звучит весьма современно. Почему тогда вы не решились одеть героев в современные костюмы, перенести действие в нашу эпоху?
Я знаю, так модно сейчас, но мне кажется, это как-то неловко. В случае с «Садом» нужны костюмы именно той эпохи, необходимо указать на нее, ибо она — последняя перед обрывом, за которым для России начался совершенно другой путь. Если бы мы по нему не пошли, возможно, жили бы сейчас по-другому. В финале фильма я совершенно прямо об этом говорю: все идут пилить деревья, но такое ощущение, что они, вооружившись пилами и топорами, не сад собрались вырубать, а уничтожать свою страну, судьбу.»
Андрей Сигле о Сергее Овчарове:
«Сергей Михайлович уникальный режиссер, и я очень рад, что мне удалось с ним поработать. Он так тщательно работает с актерами! Полтора месяца ежедневных репетиций в костюмах по десять-двенадцать часов — этого не позволяет себе на сегодняшний день никто. Мы себе позволили, понимая, что это будет абсолютно необходимо для воплощения великого произведения в кинематографе.»
Андрей Сигле
«Решение снимать «Сад» было принято буквально за один вечер. Изначально мы с Сергеем Овчаровым собирались снимать мультфильм «Сокровище», но когда он вдруг предложил экранизировать Чехова и рассказал, как именно видит всю эту историю, я понял, что может получиться просто уникальный фильм. К тому же незадолго до этого мы с Дмитрием Светозаровым закончили «Преступление и наказание», и мне показалось, что было бы логично — перейти от одного классического произведения к другому. Экранизация классики, на мой взгляд, путь, по которому нам стоит сейчас идти, поскольку литературный сценарий — это основа основ. Если сценарий плох, этого не исправить ни режиссерской работой, ни актерским исполнением.
Сценарий «Садa» создавался Сергеем Овчаровым. Он не просто открыл пьесу и начал снимать. Наш фильм не буквальная экранизация, а скорее интерпретация. Он снят по мотивам «Вишневого сада». Мы делали комедию, причем комедию эксцентрическую. Выбор этого жанра, кстати, позволил буквально насытить картину музыкой. Это самый музыкальный фильм, над которым мне приходилось работать. Здесь абсолютная полифония, калейдоскоп музыкальных жанров и, конечно, инструментов. В написании музыки для «Сада» я использовал самые неожиданные голоса: от дудука до аккордеона.
Мы выбрали именно комедийную интерпретацию «Вишневого сада» неслучайно. Когда-то Станиславский поставил «Вишневый сад» как социальную драму, Чехов в своих письмах высказывал сожаление по поводу такого видения пьесы. Мы внимательно прочитали чеховские ремарки и поняли, что для него были очень важны две мысли. Во-первых, мысль о том, что хозяевам усадьбы было дано все: и шикарный сад, великолепный дом… А они утратили все это из-за своего нерадивого поведения, бесхозяйственности, легкомыслия. Сад, усадьбу, свой народ, читай дальше — страну — все потеряли. И вторая мысль — Чехов намекал, что мы имеем дело с классической итальянской комедией о хитрых, отбившихся от рук слугах, у которых вдруг появилась своя жизнь и своя любовь. Это комедия, в которой хозяева и слуги расходятся в разные стороны. А в разоренном доме остается только Фирс, человек, который нянчил не только всех ныне живущих персонажей, но и их родителей, а возможно, даже дедов. Он был всегда, и поэтому он присутствует фактически в каждом кадре. Фирс — это главный герой нашего фильма. Но мой любимый персонаж — Лопахин. Дело в том, что наш Лопахин сильно отличается от того, к которому нас «приучили» в школе — он человек творческий, ответственный. Да и в Раневскую влюблен безумно. Вы почитайте, у Чехова все сказано: Лопахин работает с пяти утра и допоздна. Заплатил Раневской за усадьбу, покрыл все ее долги, да еще сверху дал девяносто тысяч рублей, по тем временам — сто восемьдесят тысяч долларов. Притом, что автомобиль стоил всего двести. И не нужно думать, что он вырубает вишневый сад, чтобы поделить его на участки по шесть соток. На самом деле он болеет душой и за этот сад, и за этих господ, и за всю страну; он единственный пытается хоть что-то сохранить.
К работе над картиной мы привлекли серьезных театральных артистов Санкт-Петербурга, для которых сыграть «Вишневый сад» — серьезный жизненно важный шаг. Никаких медийных лиц. Они просто не смогли бы работать в нашем ритме. Работать было очень трудно. Сергей Овчаров очень тщательно работал с артистами, репетиции зачастую длились с утра до позднего вечера. Съемочный день заканчивается, и Сергей Михайлович буквально за один последний час снимает то, что репетировали весь день. Еще до съемочного периода он работал с актерами полтора месяца. Каждый день они были на площадке. Актеры согласились на очень жесткий график, и я кланяюсь им. Это было очень трудная, самотверженая работа. Раневская как-то упала в обморок. Все стали кричать: «На воздух, на воздух». И ее вынесли в рукотворный вишневый сад, который мы «вырастили» в павильоне. Представляете, насколько натурально он выглядел? Даже для актеров. Этот сад наша гордость. Мы не могли снимать на натуре, потому что вишневых садов в России почти не осталось. Кроме того, выяснилось, что вишня цветет меньше недели. Если бы мы поставили камеру и начали снимать, то уже через неделю пришлось бы сворачивать работу. Павильон дает несоизмеримо больше возможностей. У нас ведь не только вишневый сад искусственный, но и трава, которая проглядывает через бурелом. Настоящая через неделю уже пожухла бы. И понадобилась бы новая. Это серьезная проблема. А вот земля, гравий — настоящие, их потребовалось завести больше двадцати тонн. В последний съемочный день мы устроили публичную «вырубку» вишневого сада. Безусловно, это была акция со смыслом, своего рода месседж. Мы хотели еще раз показать, что надо оберегать то, что имеем, хранить ранее созданное — будь это рукотворный вишневый сад, киностудия, город, или души, наши и наших детей.»
Сергей Овчаров об Андрее Сигле:
Работая над «Вишневым садом» А.П.Чехова, мы договорились, что музыка будет «контрапунктна» изобразительному ряду фильма: будет корить героев за прошлое, предрекать будущее, жалеть и развенчивать, прощать и оправдывать. При всей серьезности и продуманности музыка Андрея Сигле получилась легкой, воздушной — она и увлекает, и развлекает, и щемит, и радует. Я сам себя временами ловлю на том, что напеваю то одну мелодию, то другую».